В статье рассматривается бытование романса в культурной жизни России первой половины XIX века. Сопоставление стихотворных текстов и их музыкальных воплощений является действенным средством постижения школьниками идейно-художественного своеобразия произведений, развивает эмоциональный мир подрастающих читателей.
Музыка, романс, стихотворный текст, музыкальное воплощение, средство постижения, эмоциональный мир.
«Поэзия и музыка – две силы,
пополняющие друг друга,
мощь которых удваивается
от их соединений».
Цезарь Кюи.
В курсе литературы 9 класса видное место занимает русская литература первой половины XIX века. Среди уроков, синтезирующих историко-литературные представления школьников, заслуживает внимания урок, посвящённый ознакомлению учеников с романсной лирикой этого периода. Соединяя слово поэта с его музыкальным прочтением, словесник ставит перед собой задачу не только рассмотреть лирические шедевры русских поэтов в их жанрово-тематической связи, но и развивать воспринимающе-интерпретирующую деятельность учеников в процессе анализа поэтического текста.
 Пушкинский романсный Золотой век – это поэзия и музыка всей пушкинской эпохи, высшим воплощением которой является вокальное творчество великих русских композиторов XIX века – Глинки и Даргомыжского.
Пушкинский романсный Золотой век – это поэзия и музыка всей пушкинской эпохи, высшим воплощением которой является вокальное творчество великих русских композиторов XIX века – Глинки и Даргомыжского.
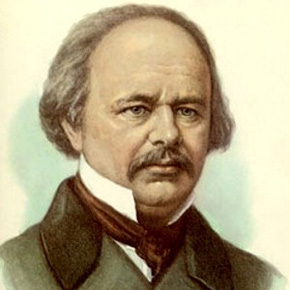 В романсе, как ни в каком другом лирическом вокальном жанре, достигли совершенного слияния, гармонии и цельности русский лирический стих и высокая задушевная мелодия. Слово «романс» испанского происхождения и некогда означало светскую песню на испанском (романском) языке, но русский романс приобрёл совершенно неповторимые особенности и придал этому слову особый смысл.
В романсе, как ни в каком другом лирическом вокальном жанре, достигли совершенного слияния, гармонии и цельности русский лирический стих и высокая задушевная мелодия. Слово «романс» испанского происхождения и некогда означало светскую песню на испанском (романском) языке, но русский романс приобрёл совершенно неповторимые особенности и придал этому слову особый смысл.
Русские романсы впервые в нашей культуре соединили в себе народно-песенные традиции с постоянно европеизирующимся музыкальным бытом русского дворянства, с его вполне объяснимым стремлением соединить родную музыкальную стихию с итальянским пением (bell canto), уже получившим к началу XIX века широкое распространение в России.
Музыкальная культура России первой половины XIX века многогранна, её история богата именами, фактами, названиями произведений. Музыка захватила не только Петербург и Москву, но и культивировалась во многих городах, в дворянских гостиных, в помещичьих усадьбах.
В мелких вокальных формах находили непосредственный отклик события общественной жизни, думы и чувства, которыми жили русские люди. В годы николаевской реакции, когда тяжёлый политический гнёт непосредственно отражался и в личной жизни, простые русские люди выражали в музыке острое чувство неудовлетворённости и естественную тягу к счастью, радости. Большое распространение получают романсы, насыщенные драматическим пафосом и выражающие страстный порыв к свободе. Наряду с этим наполняются новым жизненным содержанием восходящие ещё к эпохе сентиментализма темы одиночества, разлуки, любовной тоски.
Романтическая поэзия обогатила романс новыми образами и формами, под её влиянием расширился круг выразительных средств. Однако решающий толчок к развитию русской романсовой лирики всё же дала поэзия Пушкина: она возвысила романс до уровня подлинно классического искусства. Именно в пушкинскую эпоху выдвигается целый ряд талантливых мастеров романса: А.А. Алябьев, А.Н. Верстовский, Н.А. и Н.С. Титовы, А.П. Есаулов, М.Л. Яковлев, И.И. Геништа и, наконец, молодой Глинка, в творчестве которого поэзия Пушкина впервые получила совершенное выражение.
В эпоху Пушкина и декабристов романс становится по-настоящему крупным художественным явлением. Ограниченность сентиментальных настроений уступает место правдивому выражению глубоких и многогранных чувств.
 …В 1828 году А.С. Пушкин вписал в альбом выдающейся пианистки того времени Марии Шимановской слова: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия». Потом эти слова скажет один из гостей Лауры в пушкинской «маленькой» трагедии «Каменный гость». И тот же стих, немного изменённый, был вписан в альбом певицы Прасковьи Бартеневой: «…но и любовь – гармония».
…В 1828 году А.С. Пушкин вписал в альбом выдающейся пианистки того времени Марии Шимановской слова: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия». Потом эти слова скажет один из гостей Лауры в пушкинской «маленькой» трагедии «Каменный гость». И тот же стих, немного изменённый, был вписан в альбом певицы Прасковьи Бартеневой: «…но и любовь – гармония».
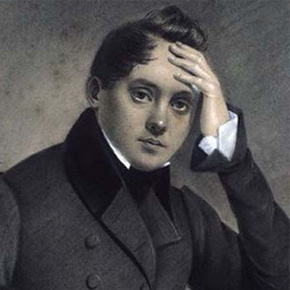 В своих воспоминаниях А.С. Пушкин лестно отзывается о творчестве своего современника поэта Е.А. Баратынского: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одарённого вкусом и чувством. Прелестны элегии и мелкие стихотворения, знаемые всеми наизусть… Первые, юношеские произведения Баратынского были приняты с восторгом…»
В своих воспоминаниях А.С. Пушкин лестно отзывается о творчестве своего современника поэта Е.А. Баратынского: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одарённого вкусом и чувством. Прелестны элегии и мелкие стихотворения, знаемые всеми наизусть… Первые, юношеские произведения Баратынского были приняты с восторгом…»
Евгений Баратынский ничего не рассказал о юношеской влюблённости в свою кузину Вареньку Кучину. И вместе с тем не о ней ли он сказал так много своим стихотворением «Разуверение»:
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
В 1825 году М. Глинка написал на эти стихи романс, с которого и началась известность композитора. Баратынский же к этому времени был уже признанным поэтом.
Ко времени написания «Разуверения» поэт, видимо, ещё не узнал любви-страсти – она застигнет его лишь через несколько лет. Но, возможно, юношеская влюблённость в Вареньку Кручина, робкая и смиренная, влюблённость-дружба, послужила толчком для создания «Разуверения» и ещё нескольких лирических стихов. Евгений виделся с Варенькой, когда жил в родовом поместье, гулял с нею, иногда они вместе обедали. Он упоминал о ней мельком в некоторых своих письмах.
Но, может быть, «Разуверение» было продиктовано не столько разочарованием в любви, сколько разочарованием в самом себе?
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
А может, твердя: «Забудь бывалые мечты», поэт хотел другого? Быть может, повторяя: «Уж я не верю увереньям, уж я не верую в любовь», он выразил ещё раз мечту о любви, которая бы вернула его к новой жизни?
Вопросы эти не столь риторические, какими могут показаться на первый взгляд. Академик Б.В. Асафьев писал: «Отрицания …в стихотворении Баратынского, в сущности, скрывают желания: хочу искушений, хочу ещё предаться сновидениям, хочу верить в любовь».
Впоследствии Евгений Баратынский счастливо женился, имел много детей, показал себя рачительным деревенским хозяином. Но в письмах друзьям его молодости нет-нет, а прорывались жалобы, странно напоминавшие «Разуверение», ставшее классикой русского романса.
Романс М. Глинки «Не искушай меня без нужды» настолько популярен и в наши дни, что само стихотворение Е. Баратынского как бы отошло на второй план. И даже название – «Разуверение» – мало кто вспоминает.
В первой части романса господствует печальное настроение, возникает образ разуверившегося в любви человека.
Первая и третья фразы завершаются безвольно падающими концовками.
Но во второй мажорной половине мелодия оживляется, приобретает более активный характер, растёт, устремляется вверх.
Слова говорят о разочаровании, а музыка раскрывает совсем другое – таящиеся под ним жажду любви и желание надеяться на лучшее.
В тексте романса М. Глинки есть некоторые изменения в сравнении с текстом стихотворения Е. Баратынского. Вместо «слепой тоски» у Баратынского в романсе звучит – «немой тоски». Нет сомнения, что композитор стремился подчеркнуть сентиментальный характер стихотворения. Сопоставление «романсного» текста и стихотворения Баратынского свидетельствует об этом достаточно определённо: вместо трёх восклицательных знаков композитором оставлен только один – в строке «Забудь бывалые мечты!».
В процессе работы над стихотворением ученики ответят на следующие вопросы: Каким чувством проникнута элегия Баратынского? О чём просит, а может быть, умоляет, герой стихотворения? В каких строчках элегии ярче всего звучат тоска и безверие? Прочтите эти строки.
Одно слово элегии несозвучно с настроением грусти – «сладко»– «сладко усыпленье». Разве у человека без веры, надежды, любви, без мечты может быть сладкий – приятный, доставляющий удовольствие – сон? Название стихотворения Баратынского и романса Глинки различны. Чем вы можете объяснить это отличие? «Слепая тоска» поэта стала «немой» у композитора. С какой целью у Глинки использован другой эпитет к слову «тоска»? (толкование эпитетов читается по словарю Ожегова: Слепая (перен.) – безрассудная, действующая или совершающаяся без разумного основания.
Немая (перен.) – не обнаруживаемая, не высказываемая прямо, затаённая (книжн.).
Сопоставляя стихотворный текст и его музыкальное воплощение, школьники в своих ответах отмечают, что за мелкими различиями скрывается нечто более важное: Баратынский написал о перегоревшем чувстве, об обиде и остуде сердца. Его стихи полны холодом и ходом самонаблюдения. Возникает образ лирического героя, разуверившегося в любви. Романс Глинки взволнованной молящей интонацией ставит под сомнение непоправимость результата, на котором настаивает поэт. Поэтому «Разуверение» (разувериться – потерять веру) Баратынского поменяло название у композитора – «Не искушай…» (не соблазняй, не прельщай заманчивыми обещаниями). Подсознательное или ещё не осознанное желание искушения сновидениями и мечтами о новой любви плохо сочетается со словом «разуверением». Музыка М. Глинки помогла выявить этот второй, сокровенный смысл «Разуверения» Баратынского. Стихотворение приобрело в музыке новое дыхание, новую жизнь, новый смысл. Слова говорят о разочаровании, а музыка раскрывает совсем другое – таящиеся под ним жажду любви и желание надеяться на лучшее.
Михаила Ивановича Глинку часто называют «Пушкиным русской музыки».
Глинкой было написано свыше 70-ти романсов на стихи 20-ти поэтов.
Уже став зрелым композитором, Глинка широко использовал поэзию Пушкина, создав на его слова 9 романсов. Эти романсы отличаются жизнеутверждающим характером, силой и полнотой чувств, стройностью и ясностью формы. Сходны с ними и многие романсы на стихи других поэтов.
Романс «Я здесь, Инезилья» был написан на ещё неопубликованные стихи Пушкина, которые сам поэт дал молодому композитору.
После прослушивания романса учитель отметит, что пушкинская серенада превращается композитором в типичный «испанский» монолог героя-любовника и лишь в середине его, как сгусток неистовой страсти, слышится восторженная хвалебная песнь.
Первая часть романса, образующая период, ритмом и характером мелодии создаёт хрестоматийный образ испанца-всадника, смелого, дерзкого юноши, «исполненного отваги». Серенада идёт в быстром темпе, отдельные интонации сверкают, словно удары клинка. Гротесковый эффект мелодии Глинки используется здесь намеренно, чтобы снять неуместную серьёзность, придать ситуации комический оттенок, подчеркнуть откровенно театрально-развлекательный, весёло-безаботный и вместе с тем стильный, в духе рыцарских времён, характер традиционной так называемой народной сцены.
Музыка, правда, на очень короткий период, преображается в центральном эпизоде, куда как раз и врывается фрагмент собственно серенады. Негой и страстью проникнуты всего лишь несколько тактов, а дальше вновь воцаряется атмосфера условностей, связанных с демонстрацией испанского колорита, шутки, лукавой игры, смешанной с показной галантностью и тончайшей иронией, которую композитор и не скрывает, рисуя героя пушкинского стиха. Обращение героя к своей возлюбленной полно противоречивых чувств – любовная мольба сменяется ревнивыми упрёками и гневными угрозами. В романсе композитором создана рельефная, полная жизни драматическая сценка, пронизанная действием.
В 40-х годах русский романс испытывает значительное влияние поэзии Лермонтова. Её мятежный, бунтарский характер, звучащие в ней острая боль и страстное обличение пороков современного общества привлекают к ней многих композиторов.
Дело Глинки продолжил Даргомыжский, его младший современник, друг и последователь, страстный почитатель Пушкина. Подобно своим великим учителям, он был убеждённым поборником национально-самобытного, подлинно народного и глубоко человечного по содержанию искусства. Но он принадлежал уже другому поколению и другой эпохе.
Он был сверстником Лермонтова, Герцена, Белинского. Сознательная жизнь его началась в условиях николаевской реакции, последовавшей за восстанием декабристов.
Новое направление, которое впоследствии получило название «критический реализм», нашло отражение и в других видах искусства.
По мнению музыковедов, Даргомыжский стал первым представителем критического реализма в музыке.
Композитор ввёл новые темы, образы, художественные принципы, значение его наследия оказалось огромным для последующего развития русской музыки. Даргомыжский боролся против распространения среди петербургской аристократии взгляда на музыку как на лёгкое, бездумное развлечение. Он писал: «Я не намерен снизводить <…> музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».
В последнее десятилетие своей жизни Даргомыжский получил возможность увидеть плоды того дела, которому Глинка и он безраздельно отдали свои душевные силы. Он стал свидетелем ещё невиданного расцвета русской национальной школы в музыке, представленной композиторами Могучей кучки и Чайковским. В этот период он и сам пережил новый взлёт творческих сил.
Таким и вошёл он в историю: смелым новатором, живым связующим звеном между эпохой Глинки – Пушкина и 60-ми годами – эпохой великого подъёма демократических сил России, пришедшего на смену годам реакции.
 Даргомыжского влекла к себе поэзия Лермонтова с её гневным протестом против насилия над человеком и ненавистью к коварному и бездушному высшему свету. Романс «И скучно и грустно» (1847) явился первым провозвестником критического направления в творчестве Даргомыжского. За ним вскоре последовал романс «Мне грустно» на слова того же поэта. Скорбные размышления о ничтожестве современного общества Даргомыжский облёк в форму проникновенных лирических монологов.
Даргомыжского влекла к себе поэзия Лермонтова с её гневным протестом против насилия над человеком и ненавистью к коварному и бездушному высшему свету. Романс «И скучно и грустно» (1847) явился первым провозвестником критического направления в творчестве Даргомыжского. За ним вскоре последовал романс «Мне грустно» на слова того же поэта. Скорбные размышления о ничтожестве современного общества Даргомыжский облёк в форму проникновенных лирических монологов.
Обращение Даргомыжского с положенным в основу романса поэтическим текстом иное, нежели у Глинки. Для Глинки основное – передача общего настроения через широкую песенную мелодию; Даргомыжский же руководствуется своим принципом: «Хочу чтобы звук выражал слово» не только в отдельных произведениях, написанных в речитативной манере, но и там, где в основе лежит песенная мелодия, он следует за тончайшими изгибами и оттенками человеческой речи, подчёркивает значение отдельных слов мелодическим скачком, ритмической остановкой или острой гармонией в аккомпанементе; он часто выделяет из общей мелодической линии отдельные интонации вопроса, восклицания, разрывая мелодию паузами и придавая ей свободный декламационный характер.
Перед прослушиванием романсов ученики перечитают стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил» и М.Ю. Лермонтова «Мне грустно», потом отметят тематическую близость этих стихотворений, которые послужили основой для романсов.
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
На уроке звучат романсы. Последующая беседа организуется следующими вопросами: Чем похожи данные стихотворения-романсы? Нуждается ли лирический герой Пушкина в ответном чувстве или самодостаточен в своём переживании любви? Как в стихотворении Лермонтова подчёркивается бескорыстность сердечного чувства героя? Удалось ли Даргомыжскому в музыке как в искусстве интонируемого смысла отразить лирический пафос стихотворений? Подумайте, что интереснее: читать стихи поэтов или слушать их музыкальные интерпретации? Почему?
Ученики отметят, что в напоённых любовью восьми строчках стихотворения «Я вас любил» (слово «любовь» в разных его формах: «любил», «любовь», «любимой» — повторяется пять раз) заключена целая история высокого и пламенного, исключительного по своей самоотверженности и благородству любовного чувства. Любовь для Пушкина – чувство возвышенное, идеальное, а, следовательно, вечное. Поэт обращается к любимой не для того, чтобы потревожить или опечалить, а с искренними пожеланиями обрести такую же светлую и нежную любовь в лице другого.
Оба стихотворения – это монологи-обращения к любимой женщине, полные задушевного тепла и ласки, но лирическая тема лермонтовского «Мне грустно» переплетается с новыми социальными мотивами. Не корысть, а свою глубокую боль и тревогу за судьбу любимого им, юного, чистого душою существа, обречённого на тяжкие страдания, а может быть, и нравственную гибель, при столкновении с бездушным и лицемерным светом, высказывает автор в данном стихотворении: «Слезами и тоской заплатишь ты судьбе». Трагическое мироощущение Лермонтова проникает и в его любовную лирику. Не всегда прочтение композитором стихотворения совпадает с позицией поэта. Порой оставался популярным романс, отодвинув стихотворение на второй план (так случилось с «Разуверением» Баратынского), а иногда стихи и их музыкальная интерпретация существуют на равных, принося одинаковые ощущения наслаждения при их прочтении или прослушивании. Так произошло и с романсами Даргомыжского.
Искусство слова уступает музыке по силе воздействия на эмоциональный мир человека, но мелодии, прозвучавшие на уроке, помогут более глубокому проникновению учащихся в лирический мир героев. Взаимовлияние двух искусств не только обогатит эмоциональный мир подрастающих читателей, но и будет способствовать решению частнометодических и общеметодических проблем в преподавании литературы в школе.
SONGS FOR ALL TIMES
ZOLOTUKHINA ZHANNA,
a teacher for Russian language
and literature school №6, Mutyshi.
Abstract
The article considers the existence of romance in the cultural life of Russia in the first half of the XIX century. The comparison of poetic texts and their musical expression is an effective means of schoolchildren’s comprehension of an ideologically artful originality of the work, and it develops an emotional world of the younger readers.
Music, romance, poetic text, musical expression, a means of comprehension, emotional world.
Список литературы:
1. Писатели о писателях. Литературные портреты. – М.: Дрофа: Вече, 2002.
2. Сто лучших поэтов России: сборник: в 2т. Том 1. Сост. В.Стравицкий. – М.: ЗАО «Масс Информ Медиа», 2002.
3. Мархасев Л. Серенада на все времена. Книга о русском романсе и Лирической песне. Рассказы, заметки, впечатления. – Л.: Советский композитор, 1988.
4. Овчинников М.А. Творцы русского романса. – М.: Музыка, 1988.
5. Русская музыкальная литература. Выпуск 1. Изд.5-е. – Л.: Музыка, 1974.
6. Медведев В.П. Изучение лирики в школе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
7. Воспитание Музыкой: Из опыта работы/Сост. Т.Е. Вендрова, И.П. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991.
8. Кац Б. «Стань музыкою слово!» – Л.: Советский композитор, 1983.
